 |
 |
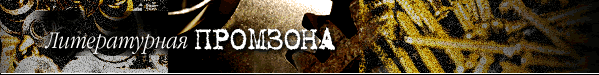 |
 |
 |
 |
Рефлексии |
Виктор
Кривулин
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМ КАК ПОЧВА БЕЗДОМНОСТИ
Дом. Слово, почти начисто лишенное тепла для нас, кто рос в послевоенном Ленинграде. Звук этого слова более всего был похож на басовитый лай гаубицы - так бухала тяжелая резная дверь с тугой, доисторически-медной пружиной, впуская в парадный подъезд клубы морозного пара с проспекта. Новенькая эмалированная табличка, варварски, с помощью ржавых болтов, раскрошившая до дыр старинную панель мореного дуба: "Граждане! Берегите тепло, закрывайте дверь". Всегда холодная парадная лестница, здесь прошла большая, наверное, и самая романтическая часть моего отрочества и юности. "Дом" - это прежде всего вертикаль, альпийское восхождение, переход из мира внешнего, мира "ничейного" в мир собственно "наш"; не "мой" мир лично, именно "наш".
Подворотня-подъезд-лестница, пред-дверие частной жизни, сюда все и выплескивалось - квартирные скандалы изнутри, гудки автомобилей и скрежет трамвая снаружи. Одна и та же лестница пронизывала несколько миров, на нижних маршах ее - запах мочи и кислой капусты, следы стертого линолеума, зияющие лакуны в чугунном цветнике перил, лишенных начального завитка и частично, в самом низу - деревянного поручня. Зато на верхних уровнях, куда доходило гораздо меньше народу, - прежняя роскошь почти в неприкосновенности: фрагмент витража лейпцигской работы, надраенные металлические штыри, и как новенький - резиновый лестничный ковер с меандром по краям. И запах одеколона "Гвоздика" - единственного известного тогда средства от комаров.
Высокие запыленные окна с низкими и очень широкими подоконниками. Юнцы в лестничной полутьме на подоконниках, в тяжелых негнущихся пальто, но полулежа, как участники платонического симпозиума, пили портвейн, вели многочасовые разговоры, толкуя какое-либо темное место из пастернаковского перевода "Классической вальпургиевой ночи", декламировали стихи - свои и чужие - в полный голос, усиливаемый лестничной акустикой и проникающий даже во внутренний двор-колодец. Оттуда прислушивались к нам подслеповатые окна.
В этом доме не было чужих. На звук наших голосов мог выползти сосед-алкоголик, капитан Ельцов со второго этажа, из недр необозримой коммунальной квартиры, где он вел вечную кухонную войну. Вмешиваясь в литературный спор, Ельцов противопоставлял классике брутальную поэзию армейской ругани. "Большой морской загиб" (полчаса непрерывного полифонически организованного инвенктива) в его исполнении, звучавший как мощный эпический аккорд, не слабее русского "Фауста", надолго поразил мое воображение. Ельцов был убежден, будто Генрих Гейне - это русский народный поэт и помнил наизусть лермонтовский перевод стихотворения "Горные вершины", правда в странной, казарменной редакции - с вкраплениями мата через каждые два-три слова поэтического текста. Свое общение с нами Ельцов именовал воспитательным.
Когда он уставал от педагогической роли, к нам могла спуститься сухонькая старая дева, учительница литературы с пятого этажа, из поделенной надвое квартиры математика Гюнтера, по чьим гимназическим учебникам учились наши отцы, молча постоять рядом, а потом вдруг, ни с того ни сего рассказать о том, как она вернулась после войны сюда, домой, в пустую нетопленую комнату с выбитыми стеклами и поняла: у нее не осталось дома, ни родных, ни близких, никого, и даже рассказать об этом некому. И она сняла солдатскую ушанку, и зачем-то долго держала ее перед собой на вытянутых руках. А литературе она училась у Григория Александровича Гуковского, и если кто-то из нас поступит в университет, то есть там такая Маша Привалова на кафедре русского языка - вот кто был главным обвинителем безродных космополитов в 49-ом. Маша требовала немедленного ареста всех евреев-профессоров на общественном судилище, куда согнали студентов, и где каждому нужно было выступать с публичными отказами от своего профессора. Я не была способна к такому, язык не поворачивался, и меня перевели на заочное отделение, еле получила диплом.
В нашем доме на каждого интеллигента с высшим образованием приходилось по пять-шесть сильно пьющих пролетариев, две-три скандальных домохозяйки, полтора инвалида-пенсионера. Странно, что к голосам подростков с лестницы прислушивались и бессловесные рабочие, и идейные большевики-пенсионеры, но никто на нас не донес ни в КГБ, ни в милицию, хотя до начала семидесятых годов в ленинградских коммуналках существовала особая должность "квартуполномоченного", который на общественных началах отвечал не только за санитарную, но и за идеологическую чистоту помещения. Квартира, в которой я жил, принадлежала до революции какому-то генералу, ребенком играл я в орлянку с серебряными и золотыми георгиевскими крестами, полученными, думаю, если не за русско-турецкую кампанию 1878 года, то уж за русско-японскую войну 1905 точно.
Поначалу в ней жила одна семья из трех человек и кухарка с истопником. Во времена моего детства жильцов стало уже около 20, считая детей и подростков, а комнат - восемь с половиной, как в фильме Феллини. Полукомнатой можно считать бывшую шестиметровую ванную, без окон и вентиляции, населенную семьей с грудным ребенком. На стене в сортире было прибито шесть или семь гвоздиков, и на каждом - как хомут в конюшне - красовался персональный семейный стульчак. Под потолком сортира - гроздья лампочек и спутанные гирлянды электропроводки, причудливо ветвившейся по направлению к нескольким, персональным же выключателям. Нечаянному гостю здесь приходилось не сладко, и редко кому удавалось с первого раза сделать правильный выбор. Стульчаков на всех не хватало, и иные, свежепереселенные из пригородов подселенцы-квартиросъемщики вскакивали орлом на унитаз, при этом нередко напрочь сворачивая его. Рядом, на кухне всегда, с шести утра до полуночи, топилась необъятная плита, стоял чад, вечно что-то булькало в кастрюлях и чанах. Было ли это белье, супы, похлебки или варево клейстера - достоверно знал только непосредственный владелец той или иной емкости, ибо все они не просто прикрывались крышками, но, во избежание вредоносного соседского вмешательства, еще и снабжены были специально приваренными двойными ушками, на которых висели замки и замочки. Хозяйки обычно вплывали на кухню с ключами от своих кастрюль, свисавшими поверх передников на грудь, наподобие наперсных священнических крестов,. Когда впервые в Эрмитаже я увидел на древнеегипетском саркофаге богиню Изиду с крестовидным ключом бессмертия, то почувствовал себя снова на коммунальной кухне, где общение и приготовление пищи выглядело таким же таинственным ритуалом, как похоронная церемония где-нибудь в Мемфисе.
Сакральная территория сортира и кухни. Святая святых коммуналки, алтарная часть любой ленинградской квартиры, агора и форум, место встреч и политико-экономических дискуссий. Здесь в голос плакали, кричали и жестикулировали, как в романах Достоевского. По своим же комнатам шептались. Каждый вечер, проходя по длинному коридору, я с трудом пробирался между придушенных голосов, шопотков, шорохов, эротических вскриков, смешиваемых с треском березовых поленьев и старых обоев, отстающих от стен. То был звуковой фон какого-то всеобщего сиротства и тотальной бездомности. Там, за дверями, блестели паркеты и дыбом стояли одеревено-крахмальные занавески, белели отовсюду кружева бесчисленных салфеток и салфеточек. Элементарный мещанский уют достигался каждодневным титаническим трудом. Там топили негреющие, но богато украшенные изразцами с позолотой голландские печки финской фирмы "Або", жаловались друг другу на нищету и холод - но так, чтобы не дай Бог не услышали соседи. В комнатах от прежних хозяев оставалась кое-какая мебель, постепенно охромевающая и приходящая в негодность - платяные шкафы с треснутыми зеркалами, продырявленные клоповники вольтеровских кресел, козетки начала века с обрывками шелковой тесьмы. Старыми вещами не дорожили, но других - за редким исключением немецких трофейных патефонов, велосипедов или ночных женских рубашек, которые использовались до середины 50-х в качестве бальных платьев, - других новых вещей не было.
Крик на кухне и шопот в комнатах, двоемирие обыкновенной ленинградской "барской" квартиры. Эпитет "барская" в применении к петербургским домам вовсе не означает, что квартира отличается особенной роскошью. Это всего лишь рыночный термин, который указывает на тип жилого помещения, состоящего из двух частей - парадной и "черной". Из широкого холла можно было попасть и в господские комнаты с эркерами, балконами, застекленными оранжереями, и протиснуться, минуя узкий коридор, в "черную" часть квартиры, где ютилась прислуга, а также располагалась кухня с кладовыми. "Черная часть" имела грубо крашенный дощатый, а не паркетный пол, закопченный потолок без лепнины и свой, отдельный, выход на "черную" лестницу, узкую, с металлическими перилами, и очень крутыми, неудобными ступенями. До революции по ней поднимались только истопники с вязанками дров да кухарки с продуктами. После - дворники, милиционеры, почтальоны и разного рода комиссии. "Черная" лестница вела во дворы - первый, "парадный" двор-колодец и "задний двор", где квадратом, в два этажа, размещались дровяные сараи. После общенародного первомартовского "Дня птиц", (когда, по распоряжению Сталина, следовало в массовом порядке выпускать на волю из клеток пернатых заключенных) - в Ленинграде на "задние" дворы с парадных лестниц перемещалась вся жизнедеятельность Там ковались кадры будущей криминальной России, устанавливались жесткие лагерные правила и законы, до сих пор не отмененные никакими президентскими или парламентскими указами. В героях там ходили малолетки, ухитрявшиеся, скажем, безнаказанно прикатить от ближайшего пивного ларька целую бочку пива, что не считалось воровством, так же, как впоследствии - кража книг из государственных библиотек, но оценивалось прямо по Максиму. Горькому - " в жизни всегда есть место подвигу". "Дом" и был тем самым местом для подвигов, по большей части алкоголических или воровских.
На крыше дровяных сараев дети из благополучных семей обучались искусству передергивать колоду, оперируя самодельными, наспех вырезанными из линованной бумаги школьных тетрадей, картами. Все короли в тех колодах напоминали Буденного, валеты - Ворошилова, а дамы - скифскую Венеру. В родительских комнатах-клетушках, в сотах родного улья героизмом не пахло: детей ждали или укоризненный свистящий шопот матери, или армейский ремень отца, или залитая вчерашним супом "Повесть о Зое и Шуре" с двумя звездами Героя на обложке. Зато на "заднем" дворе царил истинный героизм, и можно было дать полную волю своему смутному ощущению стиснутости жизненным пространством, по сути дела - чувству радикальной бездомности, которое, как зерно, медленно и неуклонно произрастало в наших душах. Так рождалась эпоха бомжей, набирало силу поколение, в основе своей ориентированное на жизнь вне "Дома", около "Дома", но ни в коем случае не в доме.
В наш настоящий Дом постепенно превращалась улица, набережная, площадь, для некоторых - книга. И конечно дворцы, переодетые государственными музеями, и потому ничьи, а стало быть, наши. Идея экспроприации экспроприаторов, приобретя криминальный оттенок, засела так глубоко, что я мог в шестнадцатилетнем возрасте подарить "навырост" девушке, с которой мы гуляли по Дворцовому мосту, половину Зимнего дворца, "когда наши придут в город". Сказано было не в шутку - вполне серьезно. Я, подобно многим моим сверстники по ленинградскому Дому, чувствовал себя законным наследником тех, кого наши отцы лишили "места на жизненном пиру". Театральная роскошь фасадов, присвоенная нами, была как бы компенсацией за нищету, в какой мы росли.
Сквозь муть дождя и снега ярко сияют окна Эрмитажа или Аничкова дворца. Это тоже мой дом Попадаешь, вынырнув из ноябрьского мрака в ослепительно освещенные дворцовые вестибюли с мраморами, хрусталями, зеркальным паркетом, где отражаются две саженных гипсовых фигуры по бокам парадной лестницы - пионера с горном и пионерки, салютующей каждому, кто отважится подняться выше - и ты дома. Скинешь в нижнем гардеробе американское, рыжей верблюжьей шерсти гуманитарное пальто (в подкладку вшиты для тяжести или на счастье серебряные четверть доллара), которое долго носил отец, а я донашиваю, отряхнешь от снега покосившиеся офицерские сапоги, присланные братом из-под пресловутой Кеми, - и вперед, по анфиладе дворцовых покоев, под гулкими сводами вдоль порфирных колонн и победных салютов, по наборным паркетам с пяти- восьми- и двенадцатиконечными звездами.. И никакой бездомности. Твой дом - звезды под ногами, подпольная роскошь обобществленного дворца.
|
|
 |
|